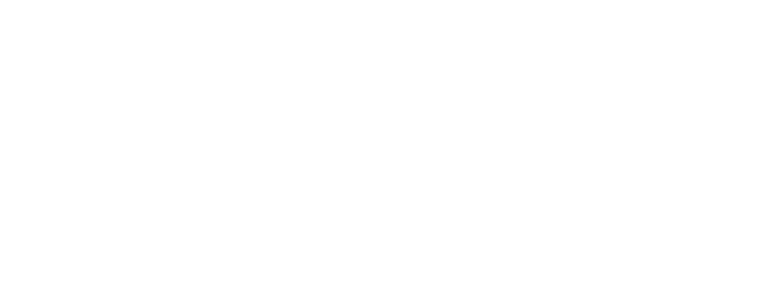
У вас есть вопрос?
Напишите его здесь и мы обязательно ответим вам
«Холодный расчёт» — рассказ о путешествии по Занскару в компании двух местных жителей — был написан Романом больше десяти лет назад. Вокруг — снег и разреженный морозный воздух высокогорья, а впереди — зимняя тропа Чадар, один из сложнейших в мире треков в мире. С тех пор в Занскар проложили дорогу, появилось электричество, но гималайские пики, речка Занскар и деревня Зангла с её дворцом и королевской четой всё ещё на месте. Мы скоро увидим их своими глазами, а ещё познакомимся с автором и его старинным другом, занскарцем Норбу. Правда, погода будет куда мягче и дорога не в пример проще, но нас ждут те же места и те же люди, полные спокойного достоинства и великой любви к жизни. Рассказ же рекомендуем к прочтению всем!
Справа от меня, в нескольких сантиметрах от ищущей опоры руки, прямо на кромке белого льда было выведено «Do not touch». Буквы нарисовали палкой на снегу, сразу заполнившая их вода обледенела, а снег вокруг сдуло ветром, так что они застыли выпуклым синим контуром. Не проходивший под низким выступом скалы рюкзак все норовил вытолкнуть меня к реке, на этот помеченный надписью хрупкий карниз. В нескольких сантиметрах ниже, побулькивая, неслась вода — то глубоко черная, то неправдоподобно синяя, вся покрытая тонкими голубыми блинами льда. Там, где полынья заканчивалась, болтавшиеся в синей струе блины стремительно засасывало обратно под лед. Я протискивался вдоль узкой ледяной полки, пока не застрял окончательно. Позади, на белой плоскости скованной льдом реки — едва ли не единственной вообще плоскости среди зубчатых скал и песчаных склонов — был отчетливо виден санный след, обходивший краем полынью и вздыбленные глыбы с синеватыми срезами трещин. Спереди след продолжался — только я никак не мог к нему выбраться. Все это называлось “чадаром”, стоило 25$ в день, и я должен был быть благодарен за то, что платил вдесятеро меньше, чем любой другой турист на реке.
Вообще-то Чадар — это покрывало, чадра. Но на реке, с шелестом проносившей мимо меня блинчатый лед, у этого термина другой смысл: здесь чадаром называют припорошенный снегом покров, сковывающий поток зимой. В верховьях реки расположена долина Занскар, когда-то — часть тибетского королевства Гуге, на сегодняшний день — просто одно из самых труднодоступных населенных мест в индийской части Тибета. Летом туда можно попасть по долгой плохой дороге, а зимой, когда перевалы засыпает снег, у живущих в долине остается только один путь на большую землю — зажатая между скальными стенами ледяная шаль. По этой шали занскарцы ходили в Лех, когда тот еще был важным узлом Шелкового пути и когда к ним, наверх — к истокам реки не добирался никто.
Первый посетивший Занскар европеец — венгр Чома Кереши — прибыл в деревню Зангла в начале XIX века. Кереши не пошел по реке обратно, а провел всю зиму за тибетскими книгами в неотапливаемой келье королевского замка. Образ закутанного в овчинную шубу изможденного Чомо, освобождающего из-за пазухи онемевшие руки только для того, чтобы перевернуть очередную страницу — это классика тибетологии. Но популяризовать долину ученому не удалось — десять лет назад, когда я впервые услышал о том, что по реке можно подняться зимой, иностранцы все также практически не бывали в Занскаре. По древнему ледяному пути, как и встарь, возили из Леха специи и соль, а обратно тащили на рынки масло и знаменитый ячий сыр — мягкий и нежный, с острыми травяными нотками.
Летом пройти по Занскару нельзя — разбухшая река превращается в сплошную белую воду, но в отвесных стенах каньона уже несколько лет взрывают дорогу. Новость об этом строительстве и заставила меня решиться: когда дорога будет закончена, никто больше не пойдет 150 километров по льду до долины; уже сейчас мы одолели на джипе километров тридцать пути, которые пару лет назад пришлось бы идти пешком. Потом мы спустились на скрипучую санную колею — и через три часа я лежал, понемногу сползая к воде, пока за мной не вернулся Норбу, один из двух моих проводников. Он тоже лег на лед, протянул мне палку и медленно протянул вперед и меня, и рюкзак.
+++++
С Норбу и его приятелем Сонамом мы познакомились два дня назад. Я шатался по Леху в сомнительной роли единственного иностранца в городе. Переполненная туристами в летние месяцы, столица Ладакха замирает зимой — исключение составляют те, кто прилетает специально ради Чадара. Несколько групп должны были прибыть на неделе, но присоединиться к ним можно было только за три тысячи долларов. Разочарованный, я сидел в крошечной кашмирской забегаловке и листал валяющуюся на столе брошюру. Сообщалось, что Чадар — один из самых сложных треков на свете — «делают недоступным высокогорье, разреженный воздух, мороз и лед, закрывающий дорогу там, где еще полчаса назад она была открыта. Главная сложность, однако...».
Я так и не узнал, в чем заключается это последнее, главное препятствие, потому что в кафе вошли Сонам и Норбу. Как и все вокруг, они были одеты в драные китайские пуховики, шерстяные домотканые брюки и резиновые сапоги. Над поцарапанными темными очками топорщились шерстяные шапки с помпонами. В руках у Сонама были саночки — маленькие, словно детские, с полозьями из резинового шланга. По этим санкам я догадался, куда они собираются, и подсел поближе. Они тоже все поняли — потому что иностранцы появляются зимой в Ладакхе только с одной целью. Сонам молчал и улыбался, говорил Норбу:
— Сонам ходил по чадару сотни раз. Нет гида лучше! Он потащит продукты, примус и керосин, будет готовить еду и чай. А главное — он вытащит тебя из воды, если это вообще будет возможно. Десять долларов в день за все.
Сонам заулыбался еще шире.
— Я тоже занскарец, — сказал тогда Норбу, — но я говорю по-английски, и поэтому не буду ничего тащить, а получать буду пятнадцать долларов. Никаких костров, если мы не найдем дров. Никаких обид, если мы не вернемся в срок. И мы не обещаем ячий сыр. Многие рассчитывают и обижаются.
Когда он заговорил про сыр, Сонам опять улыбнулся — такой застенчивой, чуть виноватой улыбкой, что я согласился, не думая.
Теперь, все так же улыбаясь, Сонам вырубал в снегу ступеньки к небольшой пыльной пещерке в стене ущелья. Предыдущий постоялец ушел утром — на свежем снегу виднелись следы снежного барса. Норбу нашел где-то в белой пустыне охапку сухих прутьев, вскоре осветивших закопченный свод. Это было важно — холод особенно донимал в тех местах, где стены загоняли реку в узкие темные щели, и ветер, непрерывно дующий вниз по каньону, бил прямо в лицо.
— Это — Чадар, — заметил то ли с гордостью, то ли с некоторым унынием Норбу, засовывая прозрачно-голубой кусок льда в котелок. Он поднял с земли проколотую канистру, ловко заклеил ее расплавленным полиэтиленовым пакетом и примял заплату черным пальцем. И добавил, подняв обожженный палец вверх:
— Чадар — он такой, какой есть, чут-мата-чут.
«Чут» — индийское матерное слово из трех букв, которым гиды пользуются довольно редко — во всяком случае, не перед клиентами. Но Норбу не стеснялся — то ли оттого, что хинди был для него чужим языком, то ли потому, что другими словами описать морозный вечер на Чадаре не так-то легко. Из полукруглой арки пещеры была как в раме видна застывшая река и освещенный месяцем хребет напротив, перечеркнутый тенью нависшей над нами горы. Над замершими скалами сверкал мириад звезд, и когда смолк заполнявший гулом пещеру примус, в каньоне стало очень тихо. И сразу же стало слышно, как шумит подо льдом река.
+++++
Проснувшись от холода, я не мог заставить себя высунуть из спальника даже нос, пока Сонам не произнес свои первые за целые сутки слова.
— Чай, сэр, — сказал он, подвигая ко мне дымящуюся кружку. Пар из его рта смешивался с облачком, поднимавшимся над кипятком. В пещере было невероятно грязно — перемолотые временем горы превращались в пыль, и вся эта пыль собиралась в моем спальном мешке. Оттого, что вчера мы жались к догорающим углям, поверх белой пыли одежду покрывали черные пятна сажи. Я давно привык к тибетской нечистоплотности, но все равно удивился, когда Норбу стал пояснять, что на Чадаре не полагается мыть лицо и руки.
— Чадар — это чадар, — опять сказал он. — Будешь мыться — заболеешь.
Я все же умылся, балансируя на стеклянном обрыве реки — вода обжигала, а мгновенно заледеневшее полотенце сразу стало невозможно ни сложить, ни развернуть. Зато на улице было невероятно чисто, и рябь на стремнинах слепила так, что смотреть на нее было больно даже через темные очки. Лед местами был гладким, как свежезалитый каток — и в нем, как в зеркале, отражались высокие бурые горы и яркое солнце. Кое-где зыбь застыла тяжелыми, как литое стекло, черными волнами — и тогда под ними видна была промерзшая почти до дна река, разноцветные камни на дне и пузыри воздуха, вмерзшего в ледяной панцирь. Мы шли в узком ущелье, с обеих сторон сдавленном высоченными стенами, время от времени останавливаясь, чтобы получше рассмотреть замерзшие водопады. Грандиозные струи вертикальных ледяных потоков замерзли, казалось, в одну секунду — как слепки стремительных брызг, и красота снега, льда и этих гигантских сосулек ослепляла не хуже, чем рябь на солнце. Смотреть, кроме как на разнообразие агрегатных состояний воды, было не на что — но смотреть не надоедало. Сонам с Норбу молились на ходу, и однообразие их молитв замечательно подходило к пейзажу — такому же монотонному, но полному удивительных вариаций.
Во второй половине дня нас догнали занскарцы, бабы и дети. Прыткие старушки в мешковатых штанах на кривых ножках семенили быстро, не останавливаясь. Они «возвращались из Индии» — то есть шли домой с учения, которое Далай Лама давал где-то в Бангалоре, и их марш напоминал балет на льду. На спусках они сноровисто съезжали вниз на пятках своих войлочных сапог с загнутыми носами — маленькие, дочерна прокопченные, в грязных шапочках и прожженных тибетских тулупах, а когда разогнавшийся груз уже готов был нагнать их и спихнуть вниз, они неуловимым движением оборачивали сани вокруг себя, так что те ехали обратно к берегу. На деревенской поклаже болтались странно неуместные здесь багажные бирки, — прилетев вчерашним рейсом в Лех, старухи за день догнали нас и, не притормаживая, прошли мимо.
Попадались и те, ради кого оставляли на льду английские надписи. Японских и европейских туристов можно было узнать издалека по ярким комбинезонам и огромным кошкам, звонко царапавшим лед. О том, что мы догоняем очередную индийскую группу, возвещали выписанные желтой мочой имена ее участников, попадавшиеся у берегов. Каждую партию сопровождало человек пятнадцать портеров с кислородными баллонами, альпенштоками и огромными запасами дров для ночлега. Не без зависти я узнал, что перед сном туристам выдаются грелки, и что на ночь им ставят специальную палатку для туалета. Несмотря на экипировку, они не очень-то отличались от меня и от собственных проводников — грязные, с растрескавшейся на пальцах кожей и сожженными солнцем лицами в вырезах шерстяных шлемов. Норбу особенно сетовал на неумение богатых индийцев ходить в горах.
— Идут как в Бомбее и руки в карманах держат! Эх, чут-чут-чут, ну видишь же — впереди вода? Упадет — всем богам сразу молиться будет!
Я старался глядеть под ноги, и научился на ходу выкусывать из усов сосульки, появлявшиеся после каждой попытки умыться — это оказалось увлекательным, хотя и не очень приятным занятием, напоминавшим чистку лап ото льда у собак. Чадар больше не казался мне самым сложным треком на свете. Трудное время начиналось по вечерам — когда солнце уже заходило, но забираться в спальники было еще слишком рано. Норбу сидел в пещере, повторял «Чадар — это чадар, такой, какой есть», и рассказывал истории о лавинах и навсегда ушедших под лед портерах. Я делал записи, периодически отогревая пальцы под мышками. Невозмутимый Сонам молчал, с любопытством заглядывая в мой блокнот, но однажды спросил через Норбу:
— Он так много и мелко пишет — может быть, притворяется?
Услышав, что я и в самом деле пишу, он пробормотал что-то про Чому Кереши и опять затих на несколько дней.
Чома Кереши знал, зачем он пришел в Тибет, так же верно, как знал семнадцать языков, на которых он бегло разговаривал. Питавшийся, по воспоминаниям современников, «одним только соленым чаем» Кереши искал в Тибете корни венгерского. Он умер от малярии в Дарджилинге, так и не узнав, что теория его была ошибочной, но у его зимовки в Занскаре по меньшей мере была четкая цель. Сейчас же в ущелье одновременно находилось несколько десятков человек, чья мотивация оставалась для меня загадкой. Мы все шли по дороге, с которой физически нельзя было свернуть ни влево, ни вправо, и два-три дня пути в любую сторону отделяли нас от ближайшего человеческого жилья. И я все никак не мог взять в толк, отчего эти люди выбрали именно Чадар, хотя могли бы организовать экспедицию по любой из соседних, еще не исхоженных рек? И почему вообще они были склонны выкладывать деньги за то, чтобы провести две недели на адском морозе?
К полнолунию ночи стали совсем холодными, и перед сном Норбу с Сонамом стали раскладывать поверх тонких матрасов сапоги и брюки, расправляя их по форме тела. Просыпаясь ночью от холода, я вздрагивал — казалось, что под каждым человеком лежит еще один, совершенно плоский. А потом долго не мог уснуть от восхищения — под луной лед искрился, как живой, и черные лисицы, тявкая, перебегали белую реку. Ближе к утру, когда река промерзала поглубже, лед стрелял, словно кто-то очень громко хлопал дверью на небе, и звук долго еще отстукивался со всех сторон, сопровождаемый шорохом падающих камней. Лежавший у меня под подушкой термометр по утрам стабильно скатывался к тридцати градусам.
++++++
В конце концов я научился выбирать дорогу подошвами и стал четко представлять себе, как именно нужно ставить ботинок, чтобы он не соскользнул. Но главное — я стал разбираться в сортах льда. Глубоко черный на склонах и трещинах, он становился ослепительно синим у кромки воды и совсем зеленым — в тех местах, где ветер сдувал с него снег. Присматриваясь к Сонаму и Норбу, я заметил, что оба часто идут как слепцы, толкая толстые палки перед собой и ориентируясь по звуку. Над полостями плотный наст звучал все время по-разному: то глухо, как стена с тайником, то тонко, как пластины металлофона. При переходе на более безопасный участок этот чарующий звон становился все тоньше и выше, пока не пропадал совсем. И в тот момент, когда Чадар стал казаться мне простой прогулкой, Норбу вдруг остановился и стал беспокойно озираться. В ущелье пришел новый шум — тяжелый, недружелюбный рокот, и за очередным поворотом каньона перед нами торчком встали исполинские прозрачные глыбы. Занскар перегородил обвал - вода шла поверх льда, заливаясь нам в сапоги, в первый момент обжигая как кипяток, а затем поднимая глухую боль вверх по онемевшим ногам. Мы прошли еще десять или пятнадцать долгих минут, пока не уперлись в выдающийся в открытую воду черный скользкий утес. Кое-как вскарабкавшись на него, я снял сапог и вылил на белый снег поразительно грязную воду. Соскреб успевший нарасти в голенище лед, снял и отжал носок и поставил босую ногу на камень. Когда я поднял ее опять, на камне остался ровный след с папиллярными линиями — то, что секунду назад было моей кожей, намертво приморозившейся к граниту. К этому времени Сонам провалился уже по пояс — прохода впереди не было. Пришлось, закатав брюки, идти обратно — опять через воду, глядя, как выступает под коленями кровь, оттого что верхняя кромка льда сильно резала кожу.
Люди, готовые выкладывать за такие развлечения 250 долларов в день, встретились нам минут через пять — они сидели на шеях у шедших через воду портеров. Узнав, что дороги впереди нет, носильщики вернули наездников обратно на лед, а сами тут же полезли вверх, рассчитывая обойти размыв по хребту. В группе было четыре француза, шестнадцать портеров, тур-лидер (франкоговорящий непалец, известный удачными восхождениями на Эверест), непальский повар и ассистент повара. Решения, как мне показалось, принимал ассистент этого ассистента — неприметный пожилой занскарец. Старик хотел непременно преодолеть воду сегодня — на каждую пару туристов полагалась отдельная палатка, а на группу — еще и общая отапливаемая кухня, и им было необходимо дойти до ровного места, чтобы раскинуть свой огромный лагерь.
Уворачиваясь от камней, мы полезли вслед, пока, наконец, не застряли, сгрудившись в узком распадке с рюкзаками и санями на спинах. Высоко над нами перекликались уже невидимые портеры. Река с синими глазами промоин на белом льду текла так далеко внизу, что яркие фигурки туристов у берега казались совсем крохотными. Я почему-то подумал, что дорогу будут строить еще лет десять, и за это время можно будет успеть заехать сюда еще раз — до того, как увеличивающиеся с каждым годом толпы распишут весь белый наст автографами из мочи.
— Не хотят обижать клиентов, — покачал головой Норбу, глядя на болтающиеся вокруг веревки, которые портеры сбрасывали для туристов, — но это рискованно, да и поздновато уже. Ты-то не обидишься, если мы спустимся?
Мы перекурили, с трудом удерживая сигареты в окоченевших пальцах, и медленно сползли вниз к огромной пещере с низкими сводами. После купания нас трясло, и едва справившись с костром, Норбу вытащил из мешка бутылку. Я сушил сапоги, пока он о чем-то спорил с Сонамом.
— К утру лед встанет, — сказал он в конце концов, разливая по кружкам ром, — и мы пройдем. Сонам говорит, что все дело в карме, а я думаю, что утро всегда холоднее вечера. Мы же не группа, можем и подождать?
Я молчал, стараясь не прожечь сапог, а потом спросил, не обидно ли самому Норбу, что река, на которой год за годом тонули и замерзали его предки, превратилась в парк аттракционов для туристов?
— Понимаешь, — сказал Норбу, нагибаясь ко мне через огонь, так что блики костра запрыгали по его закопченной физиономии, — мы тут верим в карму. Вот допустим, что в предыдущей жизни я был твоей матерью... — он, должно быть, представил себе эту картину и поспешил поправиться: — ну, или что ты был моей матерью. В любом случае, мать обижать нельзя. Ну а поскольку моей матерью мог быть кто угодно, обижать нельзя никого, никакое человеческое существо. Мы же понимаем, почему вы сюда едете. Думаешь, оттого, что мы тут живем, мы не замечаем, как тут красиво?
— Вообще никакое существо, — вдруг поправил его Сонам по-английски.
Это было так странно — как будто заговорил немой, — что я чуть не выронил сапог в костер.
— Да, — сказал Норбу, — это я ошибся. Обижать нельзя никакое вообще существо, и неважно, человек это или нет.
++++++
Утром лед действительно встал твердой и гладкой дорогой, и словарный запас Сонама снова свелся к неизменному «Чай, сэр». Пошел снег, валивший почти целые сутки. Небо слилось с молочными горами, и в этом молоке исчезли и река, и горы, и санный след. Мы шли почти наугад, а когда снегопад перестал, стены ущелья внезапно раздались — будто мы вышли из бесконечного коридора. Заснеженные вершины обступали плоскую и поразительно тихую долину — ветра больше не было, а на лежавшем впереди бескрайнем белом поле тут и там виднелись плоские крыши прямоугольных домов. Черные горбатые яки бродили среди крошащихся каменных ступ, и воздух пах терпким дымом горящих ячьих лепешек — знакомым каждому, кто бывал в Тибете, запахом уюта и домашнего ночлега. Полная луна пробивалась сквозь снежные тучи, и склоны вокруг светились фосфорным зеленоватым светом. На одном из них торчал среди скал замок — тот, в котором Чомо Кереши составил в 1823 году первый в мире англо-тибетский словарь. Лежавшая под ним деревня с узкими улочками и каменными загонами с тех пор не изменилась. Ниже по течению где-то шумела открытая вода, но в деревне мороз сковал даже звуки, и время заморозилось вместе с рекой. Неподвижно стояли голые ветлы, далеко вверху на перевале беззвучно метались отсветы огня в монастырских окнах. Потом кто-то прошел, невидимый, по улице, бормоча молитву, и Сонам с Норбу сразу же затянули в унисон. От молитвы в этой застывшей тишине тоже веяло Средневековьем — больше даже, чем от запаха горящего навоза и наваленных повсюду вязанок хвороста, запасенных на целую зиму вперед.
— Чадар кончился, — сказал вдруг очень буднично Норбу, — а тут своя жизнь. Такая, какая есть.
Ночевали мы в доме прямого потомка старого короля. В теплой кухне горели на алтаре светильники, и аккуратными рядами громоздились пиалы на полках. В углу стояли стянутый обручами бочонок для взбивания соленого чая и работавший от солнечных батарей черно-белый телевизор, транслировавший Russia Today — единственный канал, который устойчиво принимают в долине. Кроме телевизора, в комнате не было ничего, что напоминало бы о сегодняшнем дне. Тремя месяцами раньше я был в китайском Тибете, где даже в самые удаленные уголки уже проложены доступные хотя бы для мотоциклов дороги — там тоже были алтари и пиалы, и кое-где тоже не было электричества, но нигде там не было долин, где время застыло бы, как замороженные брызги воды. Изолированный от всего света Занскар остался затерянным миром — тем старым Тибетом, в который шел пешком из Трансильвании Чома, и для того, чтобы самому взглянуть на эти замки, монастыри и дома, можно было бы пройти по льду и вдвое больший путь.
Большеглазый принц в драных альпинистских ботинках уложил возле высокой прялки бледно-розовую ячью ногу и принялся отстругивать прямо на пол тонкие красные ломти. Их ели сырыми. Я спросил, почему принц не живет в замке.
— Еще дед переехал, — ухмыльнулся он. — Замок стоит высоко, тяжело каждый день спускаться к димо в загон.
Я сказал, что я — не Чома и слова «димо» не понимаю.
— Димо, — сказал принц, — это жена яка. Димо дают масло, лучшее занскарское масло. Его везут в Лех и в Катманду, и там швейцарцы делают сыр, который называют ячьим. Но по-тибетски як — это бык, мужчина. А какой с быка сыр?
Это было смешно, и в комнате засмеялись все сразу — и Сонам, и старик в круглых роговых очках, до того читавший в углу продолговатую книгу в деревянной обложке, и старая королева в бесформенных грязных тряпках, возившаяся у плиты, и другая старуха, еще грязнее первой. Они смеялись, тряся головами, раскачивая серебро в ушах, и висевшие на шнурках вокруг жилистых шей куски овчины хлопали их по спинам. Видно было, что жизнь нравится этим людям — такая, какая есть. Норбу порылся в сумке и достал небольшой бумажный сверток.
— Сыр, — торжественно объявил он. — Я выпросил у французской группы.
Он протянул мне бумажый пакет, сделанный из рекламной брошюры. В отсветах пламени из железной печурки я разбирал заляпанные грязью слова.
«...Недоступным Чадар делает даже не затруднительность эвакуации при весьма вероятном несчастном случае, а более чем существенные средства, необходимые для организации самой экспедиции. Дело в том, что Чадар — это по-настоящему гламурный маршрут».
Печь погасла, и в комнате сразу стало холодно. Королева-мать зажгла ячью лепешку, и все еще смеясь, стала разжигать ее заново. Как это принято в Тибете, в знак дружелюбия она часто высовывала язык, поразительно чистый и розовый на фоне ее покрытого сажей лица. Эти люди жили в Средних веках, а другие люди ходили к ним в гости, потому что на рынке индийского приключенческого туризма не было предложения подороже. И тем, и другим, похоже, нравилась жизнь — такая, какая есть.
На мятой бумаге у меня в руках расплывались жирные пятна — непальский повар завернул в брошюру кусок камамбера.
© Р. Газ



